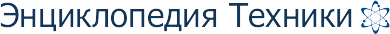В лингвистике есть такое понятие – «сема». Сема – это минимальный кусочек знания о чем-либо, кирпичик, из которого состоит значение слова. Например, для того же стула в словаре будет описание «предмет мебели, со спинкой, предназначенный для сидения одного человека». Это определение состоит из сем ‘предмет мебели’ (указывает на родовую принадлежность), ‘со спинкой’ (отделяет от табуретов, пуфиков и т.д.), ‘для одного человека’ (отделяет от скамеек, диванов и прочего). А для слова «кресло», например, добавятся семы ‘мягкий’ и ‘с подлокотниками’. Так и составляются словарные значения слов. Казалось бы всё просто…
Но давайте обратимся к классическому примеру «белокурый юноша» и «белобрысый юнец». Казалось бы, набор сем там абсолютно идентичный: ‘человек мужского пола’, ‘молодой’, ‘со светлыми волосами’. Но почему в первом случае нам представляется привлекательный молодой человек, а во втором – в лучшем случае Том Фелтон в роли Драко Малфоя? Потому что здесь есть сема-призрак. Она есть, она оказывает влияние на наше оценочное восприятие, но мы не можем ни назвать её значения, ни увидеть в словарном описании. Впрочем, вру. Местами, в словарях встречаются пометы типа «презрительное» или «грубое». Но они характеризуют только самые заметные проявления таких сем и далеко не все. Такие призрачные кусочки значения называются коннотативными семами и они отвечают за то, как мы оцениваем то, о чём говорим. Они есть не у всех слов, но если называя что-то мы невольно чувствуем, что это что-то плохое или хорошее – значит эта сема присутствует.
А вот теперь самое интересное. Такие семы очень сильно меняют язык. Причем делают это весьма своеобразно. Значение слова казалось бы остаётся тем же, что и всегда, но его эмоциональный заряд становится настолько сильно выраженным, что употреблять слово в обычной нейтральной речи становится невозможно – и ему на смену приходит другое слово. Или наоборот, такое тоже бывает. Почему это происходит? Потому что язык следует за жизнью, и это очень плохая новость для тех, кто стремится сохранить «чистоту родного языка». Ведь если произошли какие-то изменения, значит они случились не под влиянием чьей-то злой воли, не из-за чьей-то лени и распущенности, не оттого, что люди не берегли свой язык, а просто потому что язык постарался максимально приспособиться к реальной жизни, чтобы как можно точнее её описывать.
Ладно, перейду к примерам, чтобы все эти теоретические положения стали понятнее. Самый яркий пример, пожалуй – это слово «педераст» и все его синонимы. Яркий – потому что оценка этого явления в нашей культуре до сих пор очень ярко выражена, а стало быть слова, обозначающие его, очень быстро приобретают ту саму оценочную коннотативную сему и переходят в разряд неприличных. И здесь неважно, насколько нейтральными, медицинскими или даже положительными они были в момент возникновения. Собственно само слово «педераст» родилось как всего лишь термин. Оно не предполагало никакой оценки. Но ему повезло появиться в период максимально негативного отношения к явлению и оно очень быстро перешло в разряд ругательных, по пути трансформировавшись для большей выразительности.
Обратите внимание: Кирпич всё ещё актуален и вот почему.
Теперь уже мало кто, называя человека «пидарас» или «пидор» имеет в виду именно сексуальную ориентацию. Собственно и выражение «пидор в хорошем/плохом смысле» возникло именно из-за необходимости разграничить эти два значения слова – ругательное и исконное.Та же судьба последовательно постигла и другие слова, пришедшие ему на смену – гомосексуалист, гей, лгбт... Зачем они вообще были нужны? Механизм тут простой и отработанный веками. Как только какое-то слово начинает восприниматься неприличным, освобождается ниша нейтрального или даже положительного наименования того же явления, и её конечно же надо чем-то заполнить. Придумывается новый термин, со временем на него начинает давить общественное восприятие называемого явления и он в свою очередь становится слишком вызывающим, чтобы употребляться свободно. Тогда ему на смену приходит новое слово, ещё чистенькое, без коннотативной семы, которая потом всё равно на него налипает и вынуждает уступить место очередному слову с тем же значением…
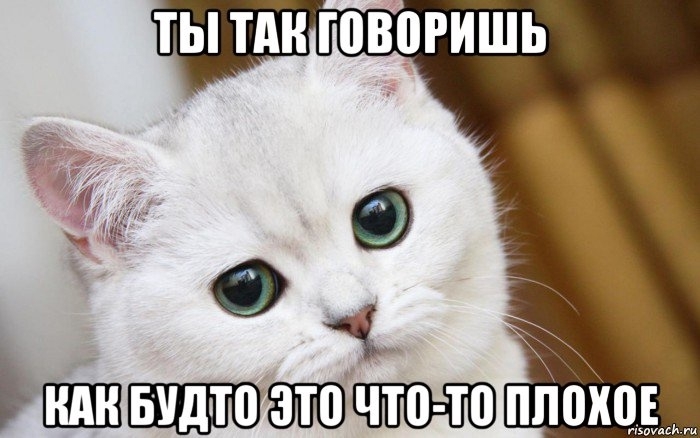
Впрочем, замены нужны только для слов, которые используются часто и постоянно нужны в речи. Такой процесс, например, характерен для наименования половых органов и вообще слов сексуальной тематики. Но в других областях оно просто меняет свою коннотативную заряженность (прихватывая в некоторых случаях и некоторые оттенки значения). Что характерно, сами слова при этом не исчезают из оборота, просто контекст у них получается другой. Вот, например, «люмпен». Люмпен-пролетариат, как мы помним, это беднейшие слои населения, не обладающие собственностью, не имеющие квалификации и так далее. Слово вошло в обиход в нейтральном и даже в некоторой степени положительном значении – образно говоря, бедные, угнетённые люди, благодаря которым станет возможность революция и постройка нового справедливого общества. Но. Обычное, повседневное отношение к бродягам и нищим оказалось сильнее любой идеологической накачки, и сейчас назвать кого-то люмпеном можно лишь с целью оскорбить его, а не указать на социальный класс.
Такая судьба вообще часто постигает слова с идеологической заряженностью. Схема тут простая: меняется отношение к идеологии, меняется и оценочный окрас слова. Причём стрелочка тут поворачивается в обе стороны. Например, слово «христианин» изначально было презрительной кличкой для каких-то непонятных шизиков, носившихся со своим «Христом». Но время шло, самоотверженные поступки верующих заставили воспринимать их всерьёз, там и поддержка властей подоспела… И вот «христианин» - вполне уже достойное самоназвание. И приходится для тех же «шизиков» придумывать новое оценочно заряженное прозвище, например «христанутые». А вот слово «поп» - наоборот, было скомпрометировано поведением попов в царской России. В результате оно приобрело в нагрузку негативное отношение говорящих, и хотя изначально было всего лишь обозначением священнослужителя, стало чуть ли не ругательным. Неслучайно вместо него сейчас используют слово «священник». Постигнет ли это слово та же участь – зависит только от носителей этого названия.
Или вот «импрессионисты» - тоже изначально презрительная кличка, мол «впечатляльщики», мазилы, которые непонятно что рисуют. Но они продолжали рисовать, и картины их стали очень хорошо покупаться, и никому уже не приходит в голову, что в этом названии могло быть что-то обидное.
Так что если вам не нравится какое-то слово, которым вас называют, бесполезно требовать, объяснять и угрожать. Бесполезно кричать о том, что слово это унизительное, а правильно нужно называть так-то. Слово получает презрительный или какой-либо иной окрас в том случае, если обозначаемое им явление воспринимается таким. Язык следует за жизнью, а не наоборот. Такие дела.
Автор - Виолетта Хайдарова
Ещё нас можно читать в ВК, телеге и Дзене
Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые посты!
Больше интересных статей здесь: Производство.
Источник статьи: Почему (еще) меняется язык. Подводные течения смысла слов.